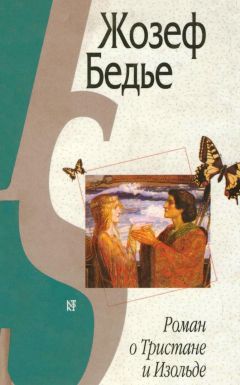Игорь Москвин - Петербургский сыск. 1874 год, февраль
– Что вы! Ваше Благородие. Разве уж можно порочить?
– Знаю я вас, – и Миша со строгим выражением пригрозил пальцем Никанору.
– Да, Боже, упаси, пусть язык отсохнет, ежели неправду скажу.
– Ты всех привечаешь, когда уходят, когда приходит.
– Народу много, Ваше благородие, много, но по мере сил…
– Давай так, либо ты помнишь, либо нет.
– Так какой день у вас интерес вызвал?
– Прошлый четверг.
– Прошлый четверг, это какое число было, дворник возвёл глаза к потолку и начал что—то считать.
– Шестое, – перебил вычисления Никанора Жуков.
– Ну, – обрадовался старший над дворниками, – эт я помню. Как понимаю, вы про Ефимку узнать желаете?
– Догадливый ты, Никанор.
– Ежели шестого числа, то Ефимка вернулся, почитай, двенадцать пробило. Я что запомнил, ворота—то мы в одиннадцать запираем, а дверь в двенадцать, так Перегудов вошёл. Так я дверь и на замок. Мы ещё с ним за жизнь поговорили.
– И что тогда Ефимка сказал?
– Так, как всегда жаловался, что денег мало, что пора домой возвертатся. Там хоть земля кормит, а тут, – Никанор махнул рукой.
– Что ещё говорил?
– Надоело скорняжничать, вот снег начнёт сходить, он и домой поедет.
– Давно Ефим хромает?
– Недели с полторы, говорил, ногу натёр.
– К нему кто—нибудь заходит?
– Не примечал, дак, он угол занимает, много не наводишь, соседи у него злые, – добавил Никанор.
– Хорошо, как бобыль, значит, живет. А что он не переедет в другое место?
– Говорит, привык, тут все знакомо, а к новому месту привыкать надо.
– Ты сам что думаешь?
– А что думать? – Пожал плечами Никанор, – живёт человек и живёт, его ж дело, где угол снимать. Тут или в другом месте.
– Так—то оно так, но иногда смущает такое.
– Не моё, конечно, дело. Я не знаю, почему сыскная полиция проявляет интерес к Ефимке, но, на мой взгляд, беззлобный он, приходит уставший, а поутру опять бежит в артель. Что работящий, так то не отнять.
– Твоими бы устами, Никанор. Мёд бы пить. Глядишь, и извелись бы в столице преступники.
– А что? – Встрепенулся старший над дворниками, даже голову в плечи втянул и голос понизил, – что и Ефимка туда же?
– Я ж не о нем, дурья твоя башка, – попытался сгладить сказанное Миша, – я ж о злодеях, что по Петербургу шныряют в поисках добычи.
– А—а—а, – протянул Никанор, – а то я уж про Ефимку подумал.
– Вот это зря, не надо в человеке видеть только плохое, – Жуков повторил слова Путилина, когда—то сказанные отчитывая младшего помощника. Вдруг неожиданно и пригодились.
– Не, это я так, – в оправдание произнёс дворник, – не уследишь же за каждым.
– То—то и оно, что порой не видим честного человека, а подозреваем в нем только преступника, – опять вырвались слова Ивана Дмитриевича. – Ещё что о нем скажешь?
– Ни плохого, ни хорошего больше не скажу, – начал уклончиво вести разговор Никанор, почувствовав в словах Жукова недосказанность, а ручаться за жильца? Не такое праведное дело, а вдруг он, в самом деле, что—то натворил. Потом твои же слова тебе же в укор поставят, а дойдёт до хозяина, а он в таких делах не пытается разобраться, откажет от места и на улицу выставит. Нет, здесь надо блюсти в первую очередь себя, а уж опосля какого—то там Ефимку, с которым перекинешься парой слов, да и то «здравствуй» да «прощай».
– Значит, ни с кем он здесь в доме дружеских отношений не ведёт?
– Не ведёт.
– И в четверг точно помнишь, что пришёл с двенадцатым ударом колокола.
– Точно так, когда на Никольской колокольне звонят, хорошо слышно.
– Тогда, пожалуй, – Миша понялся со скамьи, – больше вопросов не имею, но если что, – Жуков погрозил указательным пальцем, – сразу в сыскное.
– Непременно, – Никанор приложил руки к груди, – барин, непременно, к Вашему Благородию…
Глава двадцать третья. Визит ко второму свидетелю…
Возвращаясь в сыскное, Жуков задумался, да так, что хотел взять извозчика, но до Большой Морской о нем и не вспомнил. Все тревожил вопрос: где же был Ефим Перегудов до полуночи в день убийства? Ведь судя по времени, когда в последний раз дворник видел Морозовых, а это десять пополудни. Тогда мог поспеть к двенадцати, то есть к закрытию дверей. А если дворник видел семейство в одиннадцать?
Все равно стоит проверить, рассуждал Жуков. Теперь предстоит узнать в артели или в других местах, когда они закончили работу, с кем уходил Ефим, куда пошёл, кто его последним видел, в общем, многое надо ещё узнать. И обязательно показать дворнику из дома госпожи Пановой Перегудова.
Миша очень удивился, когда протянул руку и увидел перед собою резную дверь, ведущую в сыскное.
Когда прибыл из Обуховской больницы только помощник пристава Андреев, Василий Михайлович понял, что дело, наверняка, раскрыто, маленький свидетель рассказал все о преступнике, которого, видимо, знал и поэтому поиски едва заметных следов, что успел оставить преступник, пригодятся участковым полицейским. Поэтому Орлов не ретировался сразу, как ему передал указание Путилина ротмистр, а объяснил и показал, что нашёл. Занесли в протокол, только после этого Василий Михайлович позволил себе уехать по делам службы.
Надворный советник Соловьёв отбыл ранее, агенты решили, что им вдвоём показывать одно и то же не очень разумно, когда дел и так невпроворот.
Доктор Мазуркевич проживал в начале Большого проспекта Петербургской стороны в деревянном доме, который он приобрёл недавно, как только позволили средства. Здесь же он принимал больных. Адрес Василий Михайлович выписал себе сразу, как только узнал, что доктор с помощником заверили духовное завещание трактирщика Ильешова.
В дом вели два входа – на одном висела деревянная табличка с краткой надписью большими буквами «Доктор Мазуркевич», на втором маленькая бронзовая с буквами в завитушках «Мазуркевич Фёдор Дмитриевич».
Штабс—капитан не стал раздумывать, а направился к двери с маленькой табличкой, на половину дома, где проживал сам хозяин.
Повернул два раза за рычажок справа от входа. Внутри раздался глухой звон колокольчика. Через минуту дверь открыла женщина с рыжими волосами лет тридцати с большими глазами и вся в веснушках.
– Добрый день! – произнесла она довольно приятным голосом.
– Я к Фёдору Дмитриевичу по личному вопросу.
– Прошу, – женщина пропустила Василия Михайловича в коридор, приняла от него пальто и головной убор, – подождите, я доложу о вас.
Видимо женщина привыкла к неожиданным визитам людей, которые не представлялись, а сохраняло своё инкогнито, ведь не всегда есть повод выставлять болезни напоказ, иной раз необходимо хранить тайну.
Через несколько минут в гостиную вошёл грузный человек лет пятидесяти с лысой головой. На толстом носу нелепо смотрелось пенсне, казавшееся до того маленьким, что приходило в голову мысль «одолжено у ребёнка».
– Чем могу быть полезен? – произнёс доктор.
– Чиновник для поручений начальника сыскной полиции штабс—капитан Орлов, – представился Василий Михайлович.
На лице доктора появилось недоуменное выражение, словно он не мог понять, зачем сподобилась сыскная полиция потревожить его.
– Очень приятно, господин Орлов, но я не совсем понимаю цели вашего визита?
– Фёдор Дмитриевич. Я прошу прощения за вторжение в ваш дом, но, увы, оно связано с прискорбным событием, происшедшим на днях.
Доктор указал рукою Василию Михайловичу, чтобы тот присаживался.
– Благодарю!
– Я внимательно вас слушаю.
– Фёдор Дмитриевич, вам знаком некто Ильешов?
– Дорофей Дормидонтыч?
– Совершенно верно.
– А как же! Года три тому я лечил его… – доктор, словно споткнулся, но продолжил, – жену…
– Марию?
– Вы её тоже знаете? – удивился Мазуркевич, потом ударил себя по лбу. – ах да, вы же из сыскной.
Штабс—капитан улыбнулся.
– После этого случая Дорофей Дормидонтыч захаживали ко мне…
– С Марией?
– Нет, с отцом Иосифом из церкви Преображения Господня.
– Как часто?
– Не скажу, что часто, но раз—другой в неделю бывали.
– Не могу настаивать. Но, увы, служба дает мне право спросить, чем вы занимались?
– Ничем предосудительным, – доктор улыбнулся. – Тем более противозаконным.
– Я проявляю не праздный интерес.
– Понимаю. А вы говорили с Отцом Иосифом и с Дорофеем Дормидонтычем?
– Только с отцом Иосифом.
– Неужели он промолчал? – На вопрос Мазуркевича штабс—капитан ответил молчанием. – За бутылкой вина, вы не подумайте, что мы собирались ради этого, нет, бутылка вина была только на столе, а вели бесконечные разговоры об истории, об ошибках, ну и так далее. Понимаете, когда события произошли и известны последствия и при том мы, как—никак, более просвещены, чем наши предки. Вот в такой ситуации легко судить и даже осуждать.